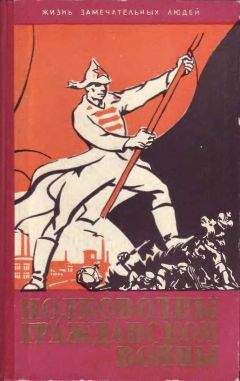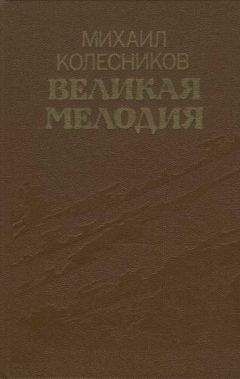Лев Гумилевский - Собачий переулок[Детективные романы и повесть]
Это письмо и было потом напечатано.
Письмо же, адресованное психобиологическому кружку, в виду его исключительного значения среди другого материала, мы прилагаем полностью.
Оно написано на обыкновенной почтовой бумаге, какую всегда подают в гостиницах, плохими чернилами, но очень разборчиво и аккуратно.
Вот что оно сообщало:
«Дорогие товарищи!
Одновременно с заявлением прокурору, излагающим фактическую сторону всего происшедшего, я считаю нужным изложить вам, насколько это возможно в моем состоянии, так сказ-ать, психологию преступления, как сам себе я ее представляю.
Прежде всего должен признаться, что до получения мною сведений от знакомых и из газет о выздоровлении Хорохорина и грозящем ему обвинении в убийстве, совершенном мною, мне как-то и в голову не приходило, что я убийца, что я совершил преступление и должен нести за него ответственность.
Это невероятно, но это так, и, кажется, я могу объяснить, почему это так.
Вы, вероятно, не хуже моего можете доказать, что главная суть, а вместе с нею и пагубность разврата с психологической и культурной стороны кроется прежде всего в распаде комплекса полового чувства, в рецидиве дикости, животного состояния.
Это я, между прочим, и доказывал Хорохорину при одной встрече с ним. Он ничему не поверил, я убедился в этом, слушая, что происходило при последнем его свидании с Волковой.
Вот изолированность чувства, его всевластие, проникновение в каждый атом мозга и тела делают человека невосприимчивым ко всем остальным человеческим чувствованиям. У голой чувственности нет сопутствующих чувствований, образующих комплекс, как это бывает у влюбленных, поэтому не возникает даже простого сострадания к объекту чувственного влечения.
И я, повторяю, не чувствовал себя ни убийцей, ни преступником. Я был взволнован своим свиданием с покойной. Я волновался в своей засаде, ожидая возможности выполнить свое намерение тем или иным способом. Я боялся быть замеченным, но стрелял я почти в открытую дверь шкафа, стараясь только об одном, чтобы не выдать себя выстрелом.
Конечно, если бы меня заметили, я убил бы обоих — записка была уже написана и оба были в моих руках. Этот счастливый случай как-то сделал для меня необходимым именно сейчас все кончить. Я был уверен, что Хорохорин не убьет ни себя, ни ее. Когда он вынул револьвер, мой был уже у меня в руках. Он поднял свой лишь с угрозою — я выстрелил для того, чтобы убить. Они были взволнованы настолько, что не заметили, откуда был выстрел. Хорохорин, только уверившись, что убил он, покончил с собою.
Все это проделал я с неменьшим хладнокровием и ловкостью, чем проделал доктор Самсонов свою изумительную операцию, спасшую Хорохорину жизнь. У меня хватило хладнокровия и на то, чтобы войти в комнату, когда прекратились стуки в дверь и соседи побежали за милицией, и приписать к записке Хорохорина одно слово, менявшее весь ее смысл. Об этом я думал все время, так как знал о сходстве наших почерков.
Я недаром сравниваю свой поступок с операцией Самсонова. Я ведь проделывал операцию для спасения своей собственной жизни, для спасения своей личности, которая, я знаю, есть некая социальная ценность.
И только когда эта операция была кончена, я почувствовал, как много истрачено сил, чтобы ее произвести.
У меня кружилась голова, темнело в глазах. Не было корчащегося Хорохорина, не было мира, людей, ничего не было, кроме трупа девушки, которую я любил. Случайно, осколком какой-то мысли, я был на мгновение приведен в сознание. Я ушел.
Как будто чужая воля меня заставляла ехать, выполнять план новой жизни, составленный для меня мной же самим, вернее, не мной, а тем другим человеком во мне, который делал ученую карьеру, которого знали вы.
Я не думал об убийстве. Я испытывал подлинный ужас от сознания, что никакая операция не могла спасти ученого человека от меня. Убедившись в этом, я решил свою судьбу и думал только об одном…
Мы несли на наших юношеских, неокрепших плечах и реакцию после девятьсот пятого года, кружки огарков, Вербицкую[11] и Арцыбашева[12], казармы наших гимназий, и пришибленное тупоумие наших отцов, и скупость жизни, гнавшей нас в половое подполье, — мудрено ли, что мы не вынесли?
Ученый Буров велит мне закончить письмо так:
«Пусть эта зоологическая драма, которая разыгралась на ваших глазах, явится тем громом, без которого не перекрестится русский человек…»
Я же думаю… Но он не велит прибавлять ничего, а потому прощайте.
Ваш Буров».
Под письмом стояла твердая, разборчивая дата — «24 июля 1925 года. Ялта».
Глава X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Этим письмом Бурова и заканчивается, в сущности говоря, весь тот неопубликованный материал, которым располагали мы, который был неизвестен другим авторам, писавшим о том же.
Можно было бы им и закончить нашу хронику. Но мы чувствуем, что интерес, пробудившийся к лицам, нами описанным, требует справок о дальнейшей их судьбе.
Нам не трудно удовлетворить законное любопытство читателя, потому что все они продолжают оставаться у нас на глазах.
Правда, Хорохорин по выздоровлению уехал в маленький городок в Сибири и прекратил всякую связь с нашим городом. Даже Шульман не имеет о нем никаких сведений.
Известие о том, что нашелся убийца, не потрясло его. Он удивился, но ограничился только тем, что выругал револьверы новых систем. Потом, когда он оправился совершенно, ему дали прочесть письмо Бурова. Он прочел его, страшно волнуясь, и тогда же вдруг решил уехать и осуществить свое решение.
Нам удалось отыскать знакомых в этом городке, и от них мы получили сведения о Хорохорине. Он был здоров, служил фельдшером, бродил с ружьем по тайге и собирался поступить в Томский университет.
Никогда ни с одной женщиной его там не видели.
У нас же в городе все как будто вошло в свою колею Молодежь работала, училась. Появился интерес к научному освещению вопросов морали, быта, половой жизни.
При переполненной аудитории, с огромным вниманием был недавно заслушан доклад доктора Грузинского на тему «Не убий! Мысли врача психобиолога по поводу искусственного аборта».
Как раз незадолго до доклада на Старогородской мануфактуре происходил, также при огромном стечении рабочих, суд над повивальной бабкой, обвинявшейся в присвоении звания акушерки и преступной небрежности при производстве аборта Варваре Половцевой.
Под впечатлением разыгравшихся событий суд разразился суровейшим приговором, который полностью рабочих все же не удовлетворил, так что прокурор его обжаловал.
Вечер после суда, произведшего в поселке огромное впечатление, Королев провел у Зои.
Воспоминание о Варе омрачало этот вечер. Но Сеня был бодр и с увлечением рассказывал о том, что делалось в университете.
В середине речи он неожиданно умолк, внимательно оглядывая притихшую вдруг Зою.
— Ты сожалеешь, что не с нами в университете, а здесь, на фабрике? — спросил он.
Она рассмеялась.
— Ой нет, Сеня, нет! Мне здесь легче, я тут совсем человеком стала…
И она действительно не сожалела о перемене в ее жизни.
Так же потерял надежду на ее раскаяние и Петр Павлович Осокин.
К числу более или менее примечательных явлений надо отнести и заметную перемену в Анне Рыжинской: из нее клещами не вырвешь слово «мещанство», и она даже сердится, когда говорят о мещанстве другие, принимая это как остроты по ее адресу.
Вот, кажется, и все, что можно сказать в заключение
К сожалению, прошло еще слишком мало времени, чтобы в жизни интересующих нас лиц произошли какие-нибудь перемены, значительные события.
Если же они произойдут и сами по себе могут быть материалом для продолжения нашей хроники, то мы не замедлим, конечно, ее составить и предложить вниманию наших читателей.
Январь, 1926. Москва
Сергей Семенов
Голод
25 апреля 1919 года
Я очень люблю Петроград! Из окна вагона уже видны трубы, церкви и крыши, крыши, крыши. И над всем протянулось огромное дымное небо. Господи, как бьется сердце! Сейчас, сейчас приеду!
Выскочила на перрон и сразу растерялась. Все кричат, бегают, суетятся. У меня с собой немного продуктов. Везу для голодного папы, а у проходных весов, кажется, реквизируют. Вокруг милиционеров столпилась целая куча. Плачут, ругаются. Неужели у меня тоже реквизируют?
Слава Богу! Через весы проскочила благополучно. Господи, как же это? На вокзальных часах уже без десяти шесть! А трамвай ходит только до шести. Мне же далеко!.. В Гавань!.. Успею ли?